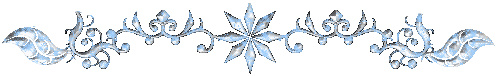***
Алексашка раньше думал, что большой политик делается сразу, вдруг. Оказалось же, что все совсем иначе. Для начала взялся Лефорт его грамоте учить. Учение трудное – слишком много всего уразуметь надобно. А буквицы все как назло разлапистые, непонятные, слова из них складываются трудно. Корпеет юноша над книгами мудреными, и стыдно признаться ему, что учение тяжело идет, совсем не так, как в думах. Но молчит Алексашка, знает – Лефорту дело это угодное, а значит и ему, Алексашке, польза будет.
Теперь за ворота уже и не выйти. Строг "мин херр", большие задания дает. Как раз к его приезду со двора и успевает юноша урок заучить. А день за днем идет, вдруг и зима настала.
Эх, сбегать бы сейчас на Посад, послушать, что в народе молвят, а то купить пироги подовые за полушку да на скоморохов посмотреть. Вместе с торговцами и зеваками посмеяться, за животы держась. Или к церкви сходить, на юродивых посмотреть, но нельзя. Сиди да учи урок мудреный. А так на улицу хочется , мочи нет просто.
Грустит Алексашка, печально водит пальцем по книжице, кою "Азбуковицей" зовут. И страшно ему, как окажется заморская мудреность еще труднее своей... Что тогда-то делать?
Эх, трудно большой политик делать. Да и Лефорт словно к идее охладел – царем Петра кричать. Как урок проверит да на ошибки укажет, так сразу в аустерию идет к Монсам, молчит все больше, шутки от него не услышишь, совсем улыбаться перестал. Неладное что-то чувствует Алексашка, а спросить пужается. Не его это ума дело, в думы господские лезть.
На дворе волнение пошло, засуетились дворовые. "Лефорт приехал", - подумал Алексашка и посмотрел в окно. Солнце шло к закату, начинало темнеть. Надо пойти за свечами. Франц Лефорт строго запретил заниматься учением без света. Алексашка отодвигает стул и встает из-за стола, заваленного бумагами, которые мин херр зовет прожектами. Прожекты эти занимают большую часть столешницы, а на краю умещается "Азбуковица" и листы бумаги, где он с утра выводил буквицы. Смотрит на свою работу – вроде получилось неплохо. Лефорт должен остаться доволен. Может, даже улыбнется и в аустерии за кружкой пенного пива даже упомянет про своего ученика. Мол, вот постигает Алексашка грамоту усердно.
Так думает Алексашка, задумчиво глядя на свои каракули. И совсем нечаянно обшлагом рукава задевает рукой лефортовы прожекты. Бумаги падают на пол и разлетаются по всему кабинету. Охает юноша и бросается их поднимать. Что-то подумает Лефорт!
Дверь распахивается, и в кабинет стремительно входит Франц Яков Лефорт. Входит и останавливается на пороге. Алексашка испуганно замирает, прижимая к груди листы бумаги, которые так и не успел поднять с пола.
- О майн готт! - восклицает Лефорт в изумлении. - Алексашка, что такое тут делается?
- Мин херр... - Оправдывается Алексашка, поднимаясь с колен и выпуская прожекты из рук. Те снова падают на пол. И он пытается их снова поднять. Стыдно ему, что видит Лефорт его неловкость. Пальцы вдруг стали словно деревянными, ничего удержать не могут.
- Мин херр... Нечаянно я... Стол рукавом задел. Широкий рукав-то... Вот какой! - Алексашка показывает рукав, виновника всего случившегося, падает на колени перед Лефортом..
- Не вели казнить! Мин херр... - На коленях подползает к Лефорту и пытливо заглядывает тому в глаза.
- Ну, буде тебе, буде, - строго говорит Лефорт, но видит мальчишка его глаза. Смеются глаза Лефорта, в уголках рта появляются ямочки и смеется, наконец, сам Франц, глядя то на Алексашку, то на рассыпанные по полу бумаги. - Туда прожектам этим и дорога. Не стоят они ничего дельного. Молодец, Алексашка! Место ты им верное указал.
- Мин херр...
- Встань с колен да подними, что раскидал. А я урок твой проверю.
Алексашка с готовностью наводит порядок в кабинете, искоса поглядывая, как Лефорт, сидя в кресле, хмурится, силясь буквицы прочитать. Радостно юноше, что увидел он улыбку мин херра. И страшно - как вдруг отругает за урок, наспех сделанный? А как мысли собрать, ежели с утра солнце яркое светило, да искры солнечные по всей комнате точно каменья драгоценные разбросаны были. Диво такое в первый раз Алексашка видел, и не мог насмотреться.
Сидит Лефорт в кресле, ногой в полосатом чулке покачивает, хмурится. Значит, не по нраву урок пришелся. Замирает Алексашка в углу комнаты, старается совсем бумагами не шуршать. "Мин херр" все молчит, смотрит поверх Алексашки мутным взглядом. А у того по коже озноб да во рту пересохло. Боязно становится вдруг. Ни разу не видел Алексашка Лефорта в гневе. И пужается сам не ведомо чего.
- Подойди-ка сюда, - ровным холодным, никак чужим голосом, зовет Лефорт.
И ослушаться не можно и подходить страшно. Робеет Алексашка. Выкладывает бумаги на стол, а самому боязно.
- Сказывай урок.
- Аз, Буки, Веди, Глаголь, Добро, Есть, Зело, Земля, Иже...
Запинается юноша. Не помнит, что дальше следует. Стыдно ему перед Лефортом.
- Дальше, - коротко бросает Франц. - Или как и давеча запамятовал?
Алексашка морщит лоб и неуверенно продолжает.
- Люди, Мыслете... Он.. Покой..
-Неправильно. Как же ты заучить не можешь? Все просто складывается.
И Лефорт легко, играючи прямо, говорит науку. Стоит Алексашка, голову понурив. Нет у него разумения такого, что политик делать может. Шмыгает носом. И смотрит на "мин херра" жалобно.
- Майн готт - шепчет Лефорт, приближая к себе Алексашку. - О майн готт... Что ж ты, отрок неразумный, со мной делаешь? Какую власть имеешь?
Молчит Алексашка, не знает, что ответить, да и стоит ли отвечать на те вопросы, на кои ответы не знает. Помнит он ученье Франца: если не знаешь что ответить, смолчать лучше. Чувствует Алексашка запах парика Лефорта, пахнет тот сиренью и весной ранней, ощущает его прикосновение щекой, когда Франц снова прижимает его к себе да с такой силой, что и дыханье перехватывает. Шепчет немец что-то на языке своем, Алексашке ну вовсе непонятное. Вдруг отнимает Лефорт его от своей груди и целует прямо в губы. Алексашке это неожиданно, не понимает он, что Лефорт от него хочет. А "мин херр" настойчив, целует в десницы, в брови, поцелует и смотрит, как на то юноша отреагирует. А тот стоит – дурень дурнем. И приятна ему господская милость и боязна, не понимает он, чем такое заслужил.
- Мин херр...
И поднять глаза боится на Лефорта. А когда тот берет Алексашку за подбородок и приближает к себе раскрасневшееся лицо его с чуть припухшими губами и смотрит, смотрит холодными зелеными глазами, что как изумруды горят в полумраке кабинета, становится юноше страшно. Пытается Алексашка вывернуться из цепких объятий Франца, да не получается у него ничего путного.
- Мин херр... Пустите.
Хватает его Лефорт за кафтан и резко тянет на себя. Трещат пуговицы, осыпаются на пол и шариками закатываются под стол. Алексашка пятится, ища опору, и упирается спиной в стол.
Меняется Лефорт в лице, смотрит на свою руку, где осталась пуговица от алексашкиного кафтана, затем взгляд на Алексашку переводит. Тот бледный стоит, спиной в стол вжимаясь, дрожит всем телом, но смотрит пристально, тщетно испуг в своих небесно-голубых глазах подавить пытается.
- О майн готт... Эншульдиге.. Майн фернунфт...Алексашка...
Франц волнуется, сбивается и переходит на свой родной язык. На нем проще в разы высказать то, что не выходит объяснить на говоре московитов. Не может Лефорт признаться, что мил ему юноша; не может он признать, что не мыслит политик без пострела ясноокого. Видит Франц – далеко пойдет Алексашка, и красив и умен и схватывает учение на лету; да жалко отпускать такого одаренного от себя. Мучает, изводит себя немец. А признать свое поражение не смеет. Вдруг ли Алексашка в нем хозяина одного и видит?
А для политик мало этого. Доверие требуется, мыслить, как один человек надобно, думать одним умом. А как случись – откажется Алексашка, забоится в тьму интриг дворцовых влезать? Понимает Лефорт, такого пострела заставить делать что-то супротив его же воли – только через плети да кнуты. И сбежит Алексашка, только его и видели; затеряется посреди шумной Москвы. И как быть тогда?
- Мин херр, я так уразумею, если это для большого политик надо, то отчего ж не быть воле Вашей, - молвит в тишине Алексашка. Смотрит на него Франц и дивится: видит перед собой довольное лицо юноши, смотрит в его сияющие голубые глаза. И отступают все волнения и думы тревожные. Радостно Францу от этого. Согласен Алексашка.
Лефорт снова целует его, настойчиво, жарко, горячо. Алексашка смелеет и отвечает на ласки господина. Чай, не маленький он, знает, что и не такое на свете бывает, но грех же это перед церковью! Самый страшный из всех, пожалуй. Но если политик иначе не сделать – можно и закрыть на такое глаза. Что ж, не считал же он воровством (страшное слово какое, если подумать!) пирожок с лотка взять незаметно или яблоки в чужом саду рвать, когда живот подводило от голода. Так и это не грех, надобность стало быть. Ко всему, вполне приятная.
На кабинет опускается тьма. Шелестят на легком сквозняки прожекты лефортовы, перекатываются по гладкому полу оторванные пуговицы ручной работы. Алексашке уже нестрашно, надежно даже и совсем не больно.
Вспоминает он, как драл его отец, какова та боль была, когда еле живой спускался на кухню; как по несколько дней в горячке метался на печи. Отцовская любовь то была. А теперь иная ему амур открылась. Добрая и зело надежная, такую предать никак нельзя, такую тока оправдать надобно.
**
С памятного зимнего дня того совсем выделил из дворни Лефорт Алексашку, освободил от труда подневольного. Когда это уже было, чтобы бегал юноша по поручению дворовых да быстрее, да спешнее - давно было. Весны черед пришел, и стали сбываться лихие выкрики юродивого, да только сам он давно уж в небесный край подался. Не выдержал дыбы, встряски да терзания кнутом.
Совсем тревожно в граде стало.
А то,как войско, собранное под началом Василия Васильевича Голицына проводили, покатилась народная молва, снова загудели на Посаде как улей жители. Купцы потуже кушак затягивали да руками разводили - жалко им вложений, без барышей остались. Казна, поди, пуста, вот и подати увеличат, обложат торговых людей, а куда больше-то?
А вся баба на царствии. Разве ж Господу Богу угодно такое? Вот и гневается он, - позабыли люди веру православную, кукишем крестятся. Пугают люд проповеди веры старой, диаволом пугают.
"И сойдет диавол в страшной ярости", - говорят. - "И спасение токмо лишь в вере старой, истинной".
Многие, речам внямши, на север подались, к раскольникам на житье, все лучше, чем тут от голоду загибаться.
Лихое время грядет, нехорошее. Тьма над дворцом нависла. Бояре все больше мрачные по лавкам сидят; прошли времена, когда она часами целыми меж собой скалились - у кого род древнее, не до того было. Думу надо думать, а как тут думать-рассудить, если Васька Голицын совсем стыд потерял - турков воевать решил? Война - оно дело хорошее, богоугодное, если с толком ко всему подходить. Ежели наспех воевать, что ж путного получится? Волнуются бояре, а тут еще слухи по темным закоулкам и лестницам поползли - царь Петр подрос. Все с немцами дружбу водит, учат они его, лютеране проклятые.
- Кому вверить жизнь свою? - решают бояре. И с одной стороны плохо, и с другой - не слаще. Верно говорят: диавол меж народу бродит, смущает речам и делами своими. Лихое время, страшное.
"В такое время только большой политик и водить", - думает Лефорт, думает так и Алексашка. Больше "мин херра" в это верует, и рад способствовать, да только Франц останавливает:
- Слишком спорый ты, шебутной. В политик таких негоже допускать – всю стратегию испортишь. Где хитростью надобно, а где – молчанием. Тактикой эта наука зовется.
Кивает Алексашка, а сам что ртуть подвижен, не терпится ему поскорее к делу приступить. Сколько раз запрет Лефорта нарушал и к берегам Яузы тайно вылазки делал - смотрел на старый, почерневший от весенних дождей дворец - Преображенское. Хотел царя увидеть, самому узреть, как подрос царь с той поры, как Алексашка учил его через щеку иглу с нитью протаскивать. Верит и не верит Алексашка, что этот юноша длинный с голосом петушиным, их с Лефортом цель.
На царя нисколечко не похож. Бегает с дворовыми – потехи устраивает. Чудно это Алексашке, дивится он на такое поведение царя. Еще больше дивился юноша, когда Лефорт привез царя юного на Немецкую слободу. Недолго побыл у них царь. Только прискакали за ним слуги и чуть ли не силком в Преображенское увезли. Смеялся Лефорт после этого, сидел он на кровати в спальне Алексашки, грыз яства марципановые да расспрашивал:
- А скажи, Алексашка, как тебе царь? Только правду говори, смотри мне!
А и как Алексашке царь взаправду? Дивный царь будущий. Но вот боится его юноша. Петр всегда сердитый, как брови нахмурит да заусенец кусает – и подойти страх берет. Что-то там у него на уме, царь все ж. Пускай Софья на троне, да и он власть имеет, вон как войска потешные казну разоряют. То потешных набор объявит, то мушкетов от Оружейного приказа стребует. И ослушаться его не смеют бояре. А тут Алексашка, сын Меншиков, бывший пирожков торговец. Как же царя - и не боятся?
- Боязно мне, мин херр, когда царь рядом. Что-то он там про нас думает? Молчалив, суров, никак думы его не прознать. Все больше лоб хмурит да заусенец грызет. Какой с ним политик вершить?
Улыбается Лефорт, будто тот ответ и ожидал от Алексашки.
- Отведай яблочко марципановое, - предлагает. А сам разсуждать берется. Внимает словам Франца Алексашка. И сразу ясно ему все делается.
- Петер нас тоже боится. Никогда прежде не видывал он столько диковин и чудес заморских как на Кукее. Поразили мы его мысли. Сказочным градом Кукуй ему теперь чудится. Сие для нас выгода хорошая. Надобно нам царя приучать к таким безделицам да забавам.
- Так я слетаю завтре за ним, - оживляется Алексашка. - Мигом, одна нога тут, другая там. Чего уж проще-та.
- Ох, Алексашка, ну и трудно с тобой дела иметь, - разочарованно качает головой швейцарец. - Петер сам должон до этого в думах дойти. Ежели сам придет вскоре - значится можно и дальше политик разсуждать. Многое царь подумать должон. И тогда уж буде он тут гостем желанным.
Силится юноша науку постигать, большой политик творить. Трудно ученье это, куда грамоте труднее. Смирился Лефорт с тем и больше не мучает Алексашку уроками. Лишь вечерами неурочными читает книги ему из гистории политик, да сказания о временах былых, кои сам на досуге любит. Вот и все учение.
Алексашке такое больше по нраву. Присядет, бывало, около камина на шкуры медвежьи и внимает. Блестят глаза ясно-голубые, рот чуть приоткрыт от восхищения, и грезит Алексашка, что попал в те гистории, какие Лефорт ему читает. Нравятся Алексашке вечера такие. Отзываются сказания в груди болью сладостной – как и он также скакать верхом в гуще сражения будет! И хоромы у него будут, не чета старому Преображенскому да полутемным палатам боярским.
Тщеславен Алексашка в думах своих. Знает про этот грех свой. Знает про то и Лефорт. Не по нраву ему это - но ничего изменить не может полковник. Понравится Алексашка Петеру - уже большое событие. А возьмет к себе, пускай на службу мелкую, оценит преданность Алексашкину, бесшабашность, веселость.
Через него будет Франц все знать - что в Преображенском и думах царя Петера творится. А Петеру как раз такой нужен человек как Алексашка. Он и рассмешить сумеет в нужный час и покручиниться вместе с царем.
- Мин херр. Ежели надо что исполнить, справить там, - решительно молвит Алексашка, выводя пальцами узоры на плече Лефорта. - Я могу, мин херр, не сумневайтесь.
Франц прячет улыбку и приобнимает юношу. Мыслить одной думой, стать как один человек, кажется , вышло у них такое дело с этим отроком. Справное дело. Алексашка нетерпеливо ерзает на покрывале цвета осеннего заката и заглядывает Лефорту в глаза. Смотрит преданно, что пес, но знает Франц, что на уме у Алексашки. Спорый, нетерпеливый он сделался для забав ночных. Ждет времени долгожданного, чуть ли не часы считает до того, как Лефорт его в покои позовет. Пылает тело молодое, сгорает от страсти запретной. Неустанно готов он хозяину своему приятственность делать.
Порой и не рад Франц такому повороту, - трудно будет Алексашку в объятьях другого представлять да от себя отрывать. Привязался швейцарец к отроку, что к брату младшему. Трудно большой политик водить, на уступки идти надобно, – а как их творить, ежели сердце иное молвит?
**
Жарко пылает камин в доме Голицына. Но зябнет Василий Васильевич. Ходит из угла в угол палаты парадной, чувствует, как власть утекает из их с царевной рук. И надо бы от дум тягучих отвлечься, да только так сделать такое? Сидит в кресле Франц Лефорт, лениво книгу перелистывает и на Голицына поглядывает.
Видит Франц, как власть недолговечна, как мимолетна она словно видение девы юной. Понимает Франц, что теперь на себя одного надежда, не то положение у фаворита уже. Ежели народ гневается – стало быть, недовольства и дальше широкой рекой потекут из домов да на улицы.
С позором вернулся князь из похода Крымского. Вернулся семнадцатого числа июня месяца, а уже через день приехал к нему Лефорт.
Надо бы и новостями поделиться и узнать, что в граде делается, да трудно Василию Васильевичу речь молвить. Понимает он, не наплетешь Францу с три короба лжи; обо всем дознается Франц. Не в сей час, так потом. И стыдно Голицыну за неумение свое войной ходить и пожаловаться хочется на судьбинушку свою тяжелую.
- Об чем грустите, царственныя большия печати и государственных великих посольских дел сберегатель, ближний боярин и наместник новгородский князь Базиль? - раздается в жарко натопленной палате мягкий, чуть хрипловатый голос Лефорта. Передергивает плечами князь. Не любит он, когда на иноземный манер зовет его Лефорт. Мнится Василию Васильевичу иное время, когда имя это уместно было поболе. Когда не с издевкой оно произносилось в спальне князя, когда нотки умаляющие там были..
- Слышал я молву, будто царевна зело изрядно хвалила Вас за кампанию недавнюю...
- Хвалить - хвалила, да напрасно.
Садится Голицын в кресло широкое европейское, напротив Лефорта и пристально смотрит, как тот книгу читает. Смотрит и не верит, что еще пару лет назад совсем иным этот человек был. Возвысил его Василий Васильевич, своим тайным галантом сделал. Жалеет об том князь теперь, дерзок Лефорт стал, свое думать начал. Все мысли у него странные, бредом пахнут, смутой, нехорошими делами.
- Все ли на Кукуе ладно? - справляется Голицын, разговорить надеется Франца. Ведь приехал он к нему за делом, а за каким – так князь и не дознался.
- К милости Вашей ладно все на слободе Немецкой. Херр Ваймер дом новый строить задумал, а фрау Майер ребеночком разродилась. Малыша Петером нарекли. Трех месяцев от роду, а уже совсем, что юный царевич, - востер да умен.
Неохотно, с ленцой рассказывает Лефорт. Словно невзначай упоминает Петра. И замолкает, – интересно ему что на это Базиль ответит. Тот поджимает губы и прищуривается. Совсем становится не похож он на князя, скорее на злобную постаревшую шавку, что с ненавистью смотрит на молодого пса.
- Франц! - дрожит голос от гнева, сжимает Голицын кулак и со всей силы ударяет по подлокотнику. - Не смей в моих палатах имя это произносить! Али не знаешь про Приказ?!
Поднимается из кресла Лефорт, откладывает книгу на столик. Отряхивает камзол от невидимых пылинок и кланяется князю. Как всегда элегантный, стройная талия поясом перетянута, руки в перстнях да кружевах утопают, шейный платок без единой морщинки лежит. Парик черный только глаза еще более темными делает.
- Сожалею, что разгневал Вас, херр Базиль.
Говорит, а на лице ни тени раскаяния и покорности. Выпрямляется Франц и смотрит на Голицына. Много времени прошло с той поры, как бывал он в постели княжеской. Словно и вовсе то сон был дремотный, летний жаркий, от коих так голова болит порой. Не по обоюдному желанию сердец то делалось, порыв минутный был.
- Уходит время Ваше, истаивает словно песок в часах, - говорит напоследок Лефорт. - Для бога прошу, живот берегите, Василий Васильевич. И не затевайте воевать более ни с кем. Такое нынче дело это опасное. Много по лестницам да коридорам боярским слов летает смутных.
- Мальчишка! - в ярости кричит Голицын. - Я подобрал тебя, неразумного, я делал тебе карьеру! А ты такие слова молвить мне смеешь! Щенок!
- Придет срок и щенок вырастет. Но будет ли он по-старому доверять хозяину? Вы сами мне это часто говорили. Больше я Вас не потревожу.
Тихо закрывается дверь. Лефорт чуть вздыхает, но уже через минуту становится самим собой. Он пускается в свое собственное плаванье, к неизведанным берегам и новым веяньям. Ждет в Преображенском его юный царь, ждет и Алексашка на Немецкой слободе. Вся Московия ждет. Поди, на родине никто и не думал, что так все богу угодно будет. Порой одна дуэль может перечеркнуть всю жизнь; порой - послужить возможностью начать новую.