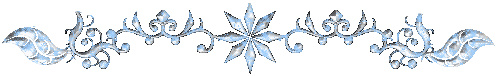Вербицкий.
Этот мальчик был очень странным.
Он жил не в нашем городке, а в селе, до которого добирался на автобусе. Из нашего класса, он был единственным парнем, который жил за пределами города. Деревенский - хотя и наш-то городок вполне можно было назвать деревней, если сравнить с какой-нибудь Москвой или Санкт-Петербургом. Но никто наш городок, разумеется, не сравнивал с Москвой, поэтому только один Вербицкий и считался "деревенским".
Но он был самым отчаянным мальчишкой во всей школе. Такого грязного мата я ни от кого больше не слышал - парниша явно плохо понимал, когда можно открывать рот, а когда лучше промолчать. Или понимал, но специально нарывался. Зачем нужно было это делать - для меня оставалось загадкой.
Характер у Вербицкого был дурной. Беспредельный даже, как у отморозка. Хотя мелким он всегда был - вот уж кому стоило молча перемещаться из класса в класс вдоль стеночки!
Его не любили. Парни - за идиотскую манеру распускать язык и говорить все, что только приходит на ум, девчонки - потому что боялись, учителя - потому что был он почти неуправляемым.
Он находил стаю бездомных собак и зачем-то пытался кататься на них. Один раз вышло - под восторженно-испуганные взгляды одноклассников и однокашников Вербицкий оседлал крупную дворняжку. За что и получил в итоге сорок уколов от бешенства и целых три шва на ноге, толстыми гусеницами пересекших икру.
Он взломал дверь школьного чердака и под крики паникующих прохожих и выбежавших на улицу учителей, расхаживал по парапету, словно гимнаст из цирка, в самом безмятежном движении расправив крылья-руки. Где он только не побывал этот ненормальный парень, сколько ему не вправляли вывихнутые конечности и не зашивали располосованную кожу - все повторялось по кругу.
Родители говорили, будто он - психически неполноценный. Дурачок, который не может себя контролировать и каждый раз высокомерно задирали свои носы, требуя от нас не общаться "с этим ненормальным мальчишкой". Не знаю, был ли Вербицкий психически ненормальным - но его невероятная активность и абсолютная непредсказуемость в самом деле иногда пугали.
Между ребятами ходила своя версия, объясняющая поведение Вербицкого. Говорили, будто он колдун. Поэтому и живет в деревне - там он, мол, со своей бабкой-ведьмой скрывается от всяких любопытных глаз. Самым весомым аргументом в пользу этой версии было утверждение родителей о его ненормальности. Раз он псих, то точно колдун - они же все какие-то странные и не от мира сего.
Честно говоря, по-моему, даже родители начали немного верить в версию о колдуне. И, если подумать, Вербицкому это было на руку: его опасались, поэтому старались обходить стороной - на фига с дебилами общаться?
На самом деле, мальчик этот жил вовсе не с бабушкой, а с мамой. Мама его была не очень красивой, измученной жизнью женщиной средних лет, может быть, поэтому ее и путали с бабушкой. Где был папа - я так и не узнал. То его папа летал в космосе, открывая планету за Плутоном, то оказывался пограничником, то вдруг "переезжал" в Москву, где работал, чтобы прокормить семью. Зато я точно знал, что его умершая бабушка действительно была сельской целительницей-ведуньей, и что у него есть старшая замужняя сестра.
За два месяца в новой школе, я подружился со всеми ребятами в классе, даже с девчонками, запомнил, как кого зовут, а вот Вербицкий так и остался без моего внимания. А как привлечь внимание того, кто каждую секунду находит на свою вихрастую голову новое приключение? Ясное дело - никак. Он вообще был странный, к таким подход не найдешь, нет к таким подхода. Только и оставалось, что украдкой наблюдать за его тощей фигуркой да впитывать слухи о нем от одноклассников.
Странный, ненормальный, сумасшедший, колдун – черт, это был самый необыкновенный и замечательный человек, которого я когда-либо встречал! Как же я хотел с ним подружиться! Первый раз так яростно я хотел получить чью-то дружбу и первый раз не знал, как это сделать.
Но оказалось, что подружиться с ним не так уж и сложно. Нужно всего лишь положить руку на острое плечо взвившегося от ярости Вербицкого, предостерегая его от очередной стычки и, как следствие, тумаков в драке и нагоняя от директора.
Он съел вторую порцию йогурта, которая должна была достаться тебе? Вот, держи мой. Ты только тише, не шуми, а то тебе еще в понедельник здорово попало от Софьи Львовны.
И Вербицкий уже шкодно, как умеет только он, растягивает губы в улыбке, а потом уже не оторвешь его от себя. Как по волшебству - мы вдруг друзья, и он с чувством собственного достоинства меняется с моей соседкой по парте своим почетным местом перед учительским столом, на мою скромную третью парту во втором ряду.
Когда сидишь рядом с Вербицким, то хорошо видно, какие необычные у него глаза. Один -светло-ореховый, яркий, сверкающий золотом от пойманного лучика солнца или электрической лампы. А второй - блекло-серый, будто пустой. Он всегда садился на уроках так, чтобы я мог видеть только яркий глаз.
Разноцветные глаза тоже были поводом для слухов и дополнительным уверением в том, что Вербицкий колдун - да и как еще объяснить, что у всех глаза одного цвета, а у него - разноцветные!?
Сам Вербицкий, в ответ на это, всегда высокомерно ухмылялся и гордо приподнимал острый подбородок, и выяснять дальше, колдун он или нет, желающих больше не находилось.
Вербицкий продолжал лазить по крышам и подвалам, дразнить бездомных собак, есть дикие ягоды и зарываться перед старшеклассниками, задорно мне при этом улыбаясь и забавно щуря блеклый глаз. Клоун. И псих. Которого постоянно приходилось рывком затаскивать за собственную спину и защищать перед раззадоренными парнями. Ну, куда вот ему было драться? Он и без того, еще шестиклашкой, заимел все возможные шрамы и переломы, а нормально за себя постоять так и не научился! Да и вообще, то, что он немного буйный не значило, что его можно было сразу обижать. Что я и пытался внушить потенциальным обидчикам Вербицкого, получая за него тумаки и слушая злобные тирады от самого колдуна, стоящего у меня за плечом.
Вербицкого порой хотелось придушить - и не мучаться. Но, не смотря на всю свою неуправляемость, он был забавным до одури. Поэтому, а еще потому, что он был самым необыкновенным, а значит - клевым, я с ним и общался.
Если Вербицкий прыгает на одной ножке перед огромной глубокой ямой провалившегося асфальта - быть беде. Я прямо-таки видел, как он, набравшись смелости, на хорошей скорости делает рывок и пролетает над ямой, разумеется, не долетая до конца, и грузно падает в каменные осколки, обдирая свои тощие конечности. Говорить ему "не делай этого" - трижды глупо. Он тогда точно прыгнет, из-за упрямства своего тупого. Легче усесться на широкую ленту бордюра и устроить на коленях большое яблоко.
Я не любил яблоки, больше не из-за вкусовых качеств, а из-за того, что их приходилось кусать. Если яблоко порезано мамой на аккуратные кусочки - это одно дело. А грызть целый плод - это как-то слишком для моих слабых зубов. Но у меня в сумке всегда лежит яблоко, тщательно завернутое в две салфетки, чтобы не испачкалось в мелком мусоре со дна портфеля.
Разумеется, Вербицкий замечает яблоко. Прыгает на ножке уже не так энергично, задумчиво посматривая то на меня, то на яму, будто прикидывая, что ему предпочтительней.
Как же это здорово, что у Вербицкого в организме главный орган - желудок. Этот проглот может есть постоянно, наедаясь крайне редко и минут на десять. Его даже на уроках приходится осторожно подкармливать маленькими цветными мармеладками, только бы он на месте усидел, да отвлекся от очередной сумасшедшей идеи. У нас даже целая система выработалась: он хватает учебник, воздвигая его перед своим лицом, прикрываясь от всевидящего ока учительницы. Моим прикрытием очень удобно служит спина Ильи, смотря на которую, Вербицкий всегда завистливо вздыхает и мечтательно тянет: "Это сколько же он ест в день, чтобы быть таким?!" Не знаю, сколько ест в день Илюха, но, закидывая очередную цветастую мармеладку в рот Вербицкого, мне думается, что мой колдун его сделает в этом по всем статьям.
У Вербицкого в лохмотья изгрызена кожа на пальцах, которыми он зажимает свое блестящее яблоко. Спина - будто изогнутый позвоночник какого-нибудь древнего птеродактиля, с выступающими позвонками-шипами и лопатками-крыльями. И коленки, натягивающие своей худой остротой блестящую от утюга ткань поношенных брючек. Если колдун выглядит не так - то как он должен выглядеть тогда? А колдуна можно подкармливать своими яблоками и конфетами, а уж такого колдуна, как Вербицкий, можно и перед старшеклассниками и мальчишками во дворах защищать, и перед гневно поджимающей губы мамой оправдывать.
Вместе с Вербицким мы отважились забраться на последний - седьмой этаж - заброшенного недостроенного дома. Хотя, конечно, отважился, в общем-то, именно я: уж очень дурной репутацией славился унылый бетонный монумент, с черными дырами окон, из которых тут и там выглядывали грозно подсвеченные фонарным светом руки и рожи невиданных чудовищ, на самом деле оказавшихся брошенными балками или досками. Смотря на дом с детской площадки, мы выбирали самую страшную комбинацию черных провалов прорубленных окон: вот так это, и это, и то окно больше всего походило на страшную морду монстра. Сами себя запугивали, сами и боялись. Разумеется, тогда я думал, что Вербицкому вообще все равно, куда засунуть свою вихрастую голову, что он-то уж точно не боится.
В самом доме оказалось не так уж страшно - скорее противно: грязно, воняло собачьим, а может и человеческим дерьмом; пыльно, и довольно светло. Хотелось-то страшного, полутемного особняка, с паутиной, и разбрызганной кровью по стенам и потолку, а тут и потолок-то не везде наблюдался. Даже стало обидно, что мы так долго этого боялись. Но сомкнувшейся вдруг на моем плече леденющей руки Вербицкого я все-таки испугался, до позорного вздрагивания, за что и получил саечку за испуг. А потом мы как угорелые носились по забытой всеми блочной коробке, потому что кинутые бетонные плиты, строительный мусор - это была Земля до начала Времен, холодная, пыльная, белым туманом поднимающая из-под наших ног, а что я не успевал доглядеть - тут же выдумывал Вербицкий. Жалко, что ноги в кровь он разбивал при этом вполне реально.
На бетонной площадке седьмого этажа, мы оказались не сразу. Сначала нам хватало и первого, чтобы уместить там всех безобразных монстров вкупе со скалами. Но потом нам стали мешать различные иноземные объекты, дающие вполне реальные тумаки, воняющие дешевым пивом и родительским одеколоном. Тогда наглая сущность разноглазого Вербицкого потребовала "подкинуть" нас выше. Потребовала, кстати, у тех же воинственных старшеклассников, которые до этого нас гоняли. Парни долго отправляли нас в песочницу, но талант Вербицкого всегда добиваться своего никогда не подводил - нас в прямом смысле этого слова закинули выше. Выше было еще грязней. Зато свободней. Без пьющих пиво старшеклассников, и мешков с бытовым мусором. Из брошенной постройки мы выходили все белые, грязные, пропахшие пылью, но невероятно счастливые. В таком виде, разноглазый и убегал от меня к своей автобусной остановке, чтобы уехать домой в село. Хотя сам Вербицкий называл это загадочным "ну, я пошел", запрещающим провожать его хотя бы чуть-чуть. Он вообще все старался делать очень загадочно и неоднозначно, кривя губы в своей фирменной шкодливой улыбочке и заводя руки за спину.
В гостях у Вербицкого я оказался только в начале девятого класса. Все несколько лет нашей дружбы, юный колдун не разрешал мне даже до остановки с ним пройти, что уж было говорить о поездке к нему в гости. Зато у меня Вербицкий обожал засиживаться подолгу. Мама сначала относилась к нашим посиделкам с огромной толикой недовольства: Вербицкий ей не нравился, как и любой другой родительнице наших одноклассников. Но потом она смирилась, и когда я провожал друга до двери, замечал, что его грязные, стоптанные кеды были аккуратно, носочек к носочку поставлены к стеночке, а брошенная впопыхах ветровка - цивильно повешена на крючок, рядом с моей собственной курткой. Каким-то образом, но он околдовал мою маму. А что еще можно было ожидать от разноглазого? Лишь веселого, щурящегося блеклого глаза и смешливого: "Не расстраивайся, я и тебя когда-нибудь заколдую, сил только наберусь, ты твердолобый какой-то".
Вербицкий был любопытным до одури, разве что голодным он всегда был больше, но в остальном - любопытный до одури. В моей вроде бы обычной, ничем не примечательной квартире, отшлифованной дорогим ремонтом с подачи вечно пропадающего на работе отца, оказалось просто уйма невероятно интересных местечек и вещей. Я могу зуб дать за то, что до прихода в мой дом Вербицкого, всего этого не было.
Не было застрявшей между паркетными досками сверкающей голубой бусины, которую, как мы не старались, не смогли вытащить. Что это за бусина такая, я так и не смог выяснить даже у мамы - если она и правда слушала меня, то потом лишь передергивала плечом и просила вернуть свернутый угол ковра на место.
Не было в декоративных оконцах на двери в зал того золотистого вкрапления, смотря сквозь которое весь мир казался чайно-желтым, солнечным, как правый глаз Вербицкого. И зонты-трости мне казались не такими прекрасными и потрясающими, и я не знал, что у кактуса с одной стороны колючки более злые, чем с другой.
У меня в комнате он вел себя минимум, как полноправный хозяин. Без угрызения совести с разбега плюхался на мою постель, копошась и обязательно сбивая покрывало, после чего устраивался в ее изголовье, прижимая к животу подушку и, уже в миллионный раз, рассматривая старые коллекции машинок и коробочек музыкальных дисков, любовно расставленных на полках над кроватью. Я знал, что это самое удобное место - вся комната будто на ладони. Про Вербицкого можно было и вовсе забыть - просто лежать на полу, хрустя какими-нибудь чипсами, любовно уставившись в телевизор. Или даже уйти в другую комнату, поговорить с одним из позвонивших одноклассников. Он либо неподвижно сидел на кровати и ни то дремал, ни то просто крепко о чем-то задумывался, либо, когда становилось скучно, сам давал о себе знать. Со временем, я приноровился стаскивать Вербицкого к себе на пол, чтобы по велению родительницы сделать домашнюю работу - стоило мне только протянуть руку к пятке друга, как тот, недовольно поджимая губы, скатывался вниз вместе с прижатой к животу подушкой. Боялся мой колдун щекотки.
А в сентябре, будучи уже учеником девятого «А» класса, этот дурак совершил грандиозный полет с яблони на асфальт. Конечно, за столько лет Вербицкий уже привык ходить побитым, и возможно, то падение можно было бы назвать даже легким, по сравнению с предыдущими, но чем старше мы становились, тем ненавистней мне было смотреть на раненного товарища. Он часто стал на меня жаловаться, ругаться и насмешливо меня подначивать, говоря, что я ему все веселье порчу своим родительским инстинктом. Но какая мне разница, что он там себе возмущается, когда я выше Вербицкого на голову и уж точно не такой Кащей, как он? Но тогда, в девятом классе, слетев с яблони, он все-таки здорово приложился. Я испугался, когда Вербицкий не сразу смог встать – а только сидел и кое-как поскребывал расцарапанными в кровь пальцами по шершавому асфальту, как всегда улыбаясь, шепча что-то вроде «я в порядке» и «сейчас поднимусь».
Поднял его я, с помощью одноклассников. Домой его нести было страшно – мать бы обоих убила за такое – приходилось дрожащими руками кое-как приводить непутевого Вербицкого в порядок прямо на улице. У Илюхи руки дрожали, потому что грязь и кровь Вербицкого могли попасть на белоснежные манжеты его рубахи, у Витька – потому что за тупость Вербицкого никому не хотелось получать. У меня – потому что Вербицкий дурак. Я, не переставая крыл шумно сопящего парня отборным матом, периодически несильно ударяя его по голове. Хоть удары и были совсем легкими, голова Вербицкого, словно у куколки тряпичной, откидывалась назад. А еще он ревел, украдкой отворачиваясь, чтобы никому не дать увидеть своих слез, а потом ловко утыкался лицом мне в локтевой сгиб, стирая соленые капли о мою куртку. Ревел - и ржал, как тупица, а когда боль притерпелась, то у него снова крышу снесло, то есть язык проснулся. И Вербицкий начал нести свою фирменную чушь, да так, что захотелось идиота обратно с яблони сбросить, причем прямиком под колеса какой-нибудь здоровенной машины, чтобы уж наверняка.
- Мудак ты, Вербицкий.
- Согласен с Ильей! – хором, я и Витька. А Вербицкий все улыбается, с трудом встает на ноги, и, чуть пошатываясь, делает пробные шаги. Шатко идет, неуверенно, как осенний лист на ветру, пытающийся удержаться за ветку дерева… Тупое сравнение, но я с грустью понимал, что и тот, и другой упадет.
- Ты когда-нибудь себе шею все-таки свернешь, - мрачно бормочет Илья.
- Ты что, Илюх, он же колдун! Как колдун себе шею свернет? – театрально закатил глаза Витёк. Ну, конечно. Сейчас все взрослей – девятиклассники! И никто не верит в старые байки, что Вербицкий колдун. Если только родители… Ребятам теперь предпочтительней вариант, что он просто неуравновешенный идиот. И мне становится немного обидно за вихрастого Вербицкого, шатко вышагивающего вокруг скамейки. Я слышу, как он мурлычет что-то себе под нос, что-то очень мягкое – голос у него такой – но очень обидное и, разумеется, матерное. У кого же я еще мог научиться ругаться, как сапожник?..
Когда в классе что-нибудь жуткое происходит с кем-нибудь, все сразу начинают вспоминать, не ссорился ли этот «кто-нибудь» с Вербицким – может, тот его и проклял? Или – не сделал ли кто плохо мне – а колдун просто отомстил? А так – псих он и все. Уж определились бы, кто он, а то травят парня, а он, как шут гороховый, все с яблонь летает, словно развлекает их.
В итоге Вербицкий решает, что тяжело ранен, поэтому нагло виснет на мне, чуть ли не на плечи карабкаясь. Приходится тащить его к остановке, помахав парням на прощание. Остановка Вербицкого, провожать до которой меня раньше не пускали, оказалась железным навесом, под который набилась целая толпа людей. Мое желание скинуть Вербицкого на скамью внутри стального каркаса, разрушает ехидный шепот колдуна.
-Посмотри на нее. Правда, эта остановка похожа на скелет трицератопса, который доедают облепившие его мухи?
Меня передергивает от такого сравнения, и все оставшееся время до приезда автобуса, мы с Вербицким коротаем вдали от этого «скелета».
- А сколько до твоего села ехать?
- Час с копейками.
В салоне автобуса, старого, дребезжащего на каждой кочке, очень тяжело делить спертый воздух с огромной толпой людей. Они все взрослые, опытные – им много воздуха нужно чтобы насытить организм кислородом и они, прожив столько лет, научились это делать – дышать в переполненном транспорте. А у нас с Вербицким выходит хуже: приходится стоять в неудобной позе, ему – уперевшись спиной в стекло, непрозрачное от мутно-коричневых разводов грязи, мне – встав ровно перед ним, цепляясь одной рукой за поручень, а второй за колдуна. Ему еще тяжело стоять, на поворотах парня жутко шатает. Мне кажется, что вон тот усатый мужик, не проживший еще и сорока лет, вполне мог бы уступить Вербицкому место. Как и та дамочка, на которую я сразу обратил внимание из-за ее невозможно-огромных губ. Но Вербицкий заявил, что ему и так нормально. Тоже мне, герой!
- И ты так каждый раз катаешься? Не надоело?
- Я привык, - ответил весело, будто бы даже довольно. Один глаз желтый, второй – пустой. Ящерица с мелкими зубками - как вцепилась в палец, не оторвешь от себя.
- Неужели нельзя упросить родителей переехать в город? Так же намного удобней, чем в день тратить по два часа на дорогу до дома.
Вербицкий мгновенно мрачнеет, так, что серый глаз чуть темнеет и становится будто чем-то наполненным.
- Мне и так хорошо. Нам всем так хорошо.
- Ага, всем очень хорошо! Или поддерживаешь имидж колдуна, прячущегося в лесной лачужке?!
Я очень раздражен, Вербицкий – тоже. Пришибить его хочется - этого еле стоящего на ногах идиота. На остановке он упирается ладонями мне в плечи и толкает к отворившимся дверцам.
- Последняя городская остановка. Вали домой, а то дальше на шоссе выезжаем, - холодно шипит Вербицкий, настойчиво толкая меня к выходу. Меня бы точно выпихнули, если бы людей в салоне было поменьше, а так я лишь потревожил спокойную жизнь муравейника-автобуса, обозлив его жителей-пассажиров своими неосторожными действиями.
- Вы в общественном транспорте – ведите себя прилично!
- Все ноги отоптали!
- Паршивые мальчишки – чему их только учат?! Либо езжайте спокойно, либо идите играться вон из салона!
На нас не наорала только крепко спящая бабуля, да и та, кажется, прокудахтала что-то про «отвратительную молодежь». Но это так, чисто подсознательно.
Вербицкий продолжает меня выталкивать: мне приходится здорово постараться, чтобы не вылететь из автобуса вместе с каким-нибудь из пассажиров и перенести тяжесть тела вперед. Он моментально больно цепляется за мое запястье, чуть выворачивая, а я – в отместку - за его. Так и стоим, зло щурясь друг на друга.
- Сейчас автобус поедет, идиот тупой, выходи уже!
- Ничего не знаю, Вербицкий, поедем до твоей конечной. Ты еле ногами двигаешь, так что не спорь, - идея ехать до дома Вербицкого была абсолютно спонтанной, выдуманной за секунду, чисто из желания подействовать ему на нервы. За то, что из автобуса так выталкивать стал и за то, что вообще ведет себя, как дурак.
Я с ним с пятого класса дружу, четвертый год уже! Возможно, я еще не вижу его насквозь, но некоторые действия предугадывать научился. Как только губы Вербицкого изгибаются уголками вниз, как только ноздри начинают расширяться от большого потока втягиваемого воздуха, а глаза недобро щурятся – выпускаю его руку, придавливаю своим телом к стеклу и закрываю ладонью рот. Этот дурак все равно пытается громко мычать, но хотя бы не орет что-то вроде «Помогите, этот парень ко мне пристает!» - я знаю, у него мозгов хватит. На нас недовольно косятся пассажиры, но я даже им немного благодарен – увеличившаяся масса людей надежно вдавливает меня в Вербицкого, так, чтобы он точно не смог увернуться.
Мне противно обслюнявили ладонь, больно укусили мягкую кожу, за что я сдавил пальцами его щеки. Как нам удалось друг друга не убить – мне до сих пор не ясно, так яростно мы пихались, кусались, щипались и пинались. Но как только на остановке с очень смешным названием «Колбаскино», вышла огромная толпа пассажиров, освободив не только стоячие места, но и даже сидячие, мы сразу как-то резко успокоились.
Ну, правильно: не выкинешь же меня на полпути? Или это не из-за дружеской жалости, а просто Вербицкий утомился со мной бороться? Кто его знает, этого колдуна кудрявого, но сидели мы с ним рядом – он, прилипнув к окну, будто впервые видел пейзаж за ним, а я принялся изучать обшарпанный интерьер автобуса…
Вербицкий стеснялся. Я не сразу понял, очень уж вид стесняющегося Вербицкого был похож на вид злящегося Вербицкого: сосредоточенное, даже слишком, лицо, хмурый взгляд, и стоял он справа от меня, левым глазом ближе. Разумеется, что мне на ум приходило множество поддерживающих товарищеский дух фраз, но каждая строго отсевалась, как «сопливая», «неоригинальная» и «еще более усугубляющая положение». Поэтому я молчал и злился. Что я мог сказать? Я, у которого есть все, и которому завидует половина класса - Вербицкому, который всегда крайне болезненно реагировал на любые темы, касающиеся его дома и семьи. У них не было жутко старого, разваливающегося дома, без отопления или телевизора, не было пустого холодильника, одной пары обуви на все сезоны или другого критерия, по которому семью Вербицкого можно было бы обвинить в бедности. Но мой друг все равно всячески оберегал эту тему ото всех. Немудрено, что мы успели подраться до того, как дошли до его дома. А потом едко комментировали каждое «боевое» ранение на теле друг друга, довольно восклицая: «Отличный синяк я тебе поставил! Надо будет почаще давать тебе тумака!» или «Тебе с такой щекой больше идет, хочешь, вторую под размер подгоню?»
Дома у Вербицкого оказалось здорово. Тут не было евро-ремонта, но не было и старинно-деревенского интерьера. Тут было, как должно было быть дома у Вербицкого: правильно в неправильном, странно-уютно и правильно, черт, правильно! Его комнату я никогда себе и не пытался представить – для чего мне представлять чужие комнаты? – но как только я туда ввалился, сразу понял, что у моего Вербицкого просто не может быть другого обиталища. Простая, обычная, маленькая – с разноцветными машинками, с обклеенным наклейками от жвачек торцом неряшливо заправленной кровати, с большим рисунком скелета птеродактиля под стеклом на столе. Там же, под стеклом, куча всякой дребедени – серая стружка ластика, какой-то грязи, наших общеклассных фотографий, фотографии его сестры еще когда она училась в школе, листочки с расписанием уроков.
- Ты какао будешь? – Вербицкий говорит это устало и мрачно, без единого намека на дружелюбие, поэтому я даже не пытаюсь узнать у организма, хочу ли какао, а сразу же тяну губы в широкой улыбке и радостно отвечаю:
- С удовольствием! И поесть бы еще!..
- Пошел ты…
Все у них как у людей, у Вербицких. Замечательная квартира, милая сестра на фотографии, работающая мама, папа – то ли в космосе, то ли в Москве - и какао.
- Колдуны, оказывается, живут, как обычные мальчишки? – я бы очень хотел выпить это какао в комнате Вербицкого – у себя дома я не привык есть на кухне, да и вообще, у него в комнате было здорово – но Вербицкий настойчиво притащил меня за стол, гордо стряхнул крошки с клеенки и усадил на одну из двух табуреток. Спиной я чувствовал вибрацию холодильника, рука, опущенная на стол и лениво поглаживающая гладкую изогнутую ручку кружки, немного липла к клеенке. Сам Вербицкий гордо уселся на подоконник, устроив ноги на свободной табуретке и забавно поднимая головой узорчатую паутину тюли. Уличный свет, проникающий через стекло, золотил контур кудряшек Вербицкого и немного скрадывал четкость линий – так, что казалось будто бы Вербицкий еще более пушистый и лохматый, и будто волосы его сделаны из той же материи, что и свет...
- А тебе не нужен колдун, который живет, как обычный мальчишка?
- Дурак ты, Вербицкий, чего сразу не нужен-то? – надулся я, поднося к губам чашку. Вербицкий широко улыбается, насмешливо приподнимая подбородок и вскидывая брови.
- Любитель ты ответить так, что вроде бы и ответил, а по сути – ничего и не сказал, старик. Ты так Швабру с домашним заданием по физике заговаривай или Софью Львовну.
- По-твоему, я с тобой дружу, потому что ты колдун? – я вижу себя со стороны: презрительно скривленные губы, полуприкрытые безразличные глаза, противно-насмешливый голос. Всем своим существом выражаю недовольство таким мыслям Вербицкого, всем своим существом отрицаю детский слух о колдуне-Вербицком. Он на меня внимательно смотрит - очень серьезно и задумчиво.
- А что – нет?
- Бесишь ты меня, урод – не отвечай вопросом на вопрос!
- А кто первый начал, говнюк?
- Пошел ты, - говорю нараспев, почти с нежностью - чтобы уж совсем не рассориться. Какао я никогда не любил, окутывающая рот шершавая сладость напитка у меня вызывала легкую толику тошноты. А вот Вербицкий эту гадость пил литрами, будто бы даже вместо воды. Наверное, он уже внутри весь липкий и гадко-сладкий, ну что ж – Вербицкому пошло бы иметь вместо крови какао. От него так же тошнило.
Он полуоборачивается к окну, так, что контур его профиля теперь кажется растертым грязным ластиком; серый глаз оттеняется и становится черной дырой. Вербицкий лениво водит пальцем по стеклу, стирая тоненький слой пыли и оставляя исчезающие полосочки, которые должны соединяться в общую картинку. Я не знаю, что рисует Вербицкий, может просто линии, может складочки кожной окаменелости, может заклинание пишет.
- Я в настроении – говори, чего хочешь - наколдую, - безразлично тянет он, резко обрывая свой невидимый рисунок.
- Наколдуешь?
И зачем он привязался к этому старому слуху о колдовстве? И зачем я сам про это с ним заговорил? Не могу понять, взволнован он или нет – он как притаившаяся ящерица, может много часов неподвижно просидеть, хладнокровно прикрыв блеклый глаз тонкой перепонкой. Хладнокровное.
- Я нарисую его! – палец снова утыкается в плоскость стекла. Смеется. – Я бы и тебя заколдовал, но ты скучный такой, что с тобой делать?
- Нарисуй мне мою любовь? – какао занимает уже меньше половины кружки. Бледная, розовато-коричневая жидкость красиво расчерчивается темными лентами, когда я болтаю чашку и поднимаю со дна осевший порошок.
- Это Оксанку что ли? Хочешь с ней гулять? – тут же спрашивает Вербицкий. Про Оксанку я ему рассказывал, нет ничего удивительного, что он сразу понял о ком я.
- Ну, так нарисуешь?
- С условием, что ты сразу же свалишь из моего дома.
- Только после того, как ты меня накормишь.
После этого мы часто ездили к Вербицкому домой, и меня даже почти не обругивали за посягательство на пропитание колдуна. А еще оказалось, что он правда нарисовал мою любовь.
ЗДЕСЬ БЫЛ
- Тебе не жалко на это тратить краску? Сюда ж никто не додумается сунуться – не увидят.
- Ничего ты не понимаешь, дружище. Это я авторские права заявляю, на открытие. Чтобы все знали, кто тут первым был, - радостно сообщил Вербицкий, активно растирая зудящий от пота лоб. Его кудряшки щекотались - я часто имел честь слушать, как Вербицкий на них проникновенно ругается. Дома – у себя и у меня – он завязывал свои длинные волнистые лохмы в потешные хвостики на затылке, а потом складывал руку пистолетиком и, приставляя «дуло» к моему лбу, мрачно оповещал, что ненужных свидетелей, если они вякают, убирают тут же.
Запястье его снова заходило ходуном, тонкая кожа быстро-быстро обтягивала острую костяшку кисти под ритмичный стук шарика в баллончике. Эту ценность – краску в баллончике – я честно стащил из гаража отца, специально для своего сумасшедшего товарища. Теперь этот идиот заявлял о своей неординарности всему миру, ведя диалог исключительно через стены домов и школы. Здесь, в нашем семиэтажном доме, он пользовался баллончиком, как мелком для определения нашего роста. Каждый новый покоренный этаж он ответственно подписывал. Разумеется, подкрепляя какими-нибудь похабными рисунками.
До этого пятого этажа добраться было не легко, но, будучи выпускниками – для нас ничего не было невозможного.
ЗДЕСЬ БЫЛ ВЕРБИЦКИЙ.
- Твою фамилию все местные бомжи знают.
- Что поделать, я знаменит, - мне нравится это его движение, когда он легкомысленно поводит плечами: лопатки под легкой тканью футболки забавно лезут вверх, делая его, как минимум птицей. – К тому же, бомжи живут на первом этаже, сюда эти кретины не долезут.
- Сюда только кретины и лезут.
- Вот именно! – он стремительно оборачивается ко мне, широко и счастливо улыбаясь. Мама говорит, что у моего Вербицкого очаровательные ямочки на щеках, но я все никак не могу обратить на них внимания. По-моему, он и так очарователен до не могу – должен же я из-за чего-то с ним дружить? – Ты представляешь, насколько мы молодцы, если смогли добраться до пятого этажа! Без лестницы! Да в школе все упадут!
- Буду называть тебя кретином почаще, раз это так тебя радует, - и я смеюсь от вида его скривленной мордахи.
ЗДЕСЬ БЫЛ ВЕРБИЦКИЙ. ПЕРВЫЙ НАХ!
В меня летит небрежно брошенный баллончик, и я чудом успеваю выставить ладони и поймать жестяную баночку прежде, чем она познакомилась с моим носом. Дурная привычка вихрастого Мерлина, не подавать вещи, а кидать, кидать не глядя, из-за спины, и сильно. Знаю, что делает он так только для меня. Даже не знаю, гордиться этим или стукнуть посильней. Впрочем, пинка он от меня всегда получит.
Традиция: под фамилией Вербицкого синей ломанной дорожкой выводится моя.
ЗДЕСЬ БЫЛ ВЕРБИЦКИЙ. ПЕРВЫЙ НАХ!
КУДА ОН БЕЗ ЗОТОВА?
- Как думаешь, чего там, на седьмом? – Вербицкий запрокидывает голову назад, так, что все его кудряшки повисают вдоль спины и становится видно родимое пятнышко, спрятанное под подбородком. Из шеи остро выпирает кадык, выдвигается, как полочка тумбы. Вербицкий смотрит, щуря пустой глаз, на бетонный потолок, и мне воображается, будто он какой-нибудь Терминатор, и глаз у него рентгеновский. Хотя какой из Вербицкого Терминатор? Скорее уж вышедшая из строя программа, затрахавшая всех в будущем и посланная сюда, к нам, чтобы мы не расслаблялись. Инопланетянин. Или древний ящер, окаменелость, которую он все мечтает когда-нибудь откопать и получить Нобелевскую премию. Кто угодно, но не с этой планеты и не из этого века. Я не могу понять, что же он такое, но понимаю, что что-то очень важное. И неправильное. Все у нас с ним правильно, а сам он – весь неправильный. Мне душно, мне плохо и тревожно, стоит только задуматься о том, что обитает под копной волнистых волос, о чем он думает, что он такое.
- То же, что и на втором, третьем, четвертом и пятом, - многозначительно пинаю ком строительной грязи - какой-то моток проволоки, в крошке цемента и пыли. – Грязь. – Хотя я и ругаю Вербицкого за халатное расточительство краденого баллончика, но когда сам чувствую рукой удары шарика по стенкам, не могу совладать с собой и рисую. Рисую? Выдавливаю распылителем струю синей краски, которая густо покрывает серую стену, заодно раскрашивая и мои руки влажноватой пыльцой. Веду линию. Удар сердца вверх. Выдох – и немного вниз, совсем чуть-чуть, потому что снова ударом сердца вверх, выше. Синяя, пафосная кардиограмма, так я в детском саду рисовал верхушки деревьев, лес. Вербицкий ставит ладонь на пути моей кардиограммы, и я невольно разукрашиваю и его руку.
- Дурак, блин…
- Сам ты кретин – чем выше, тем чище. Эх, ты! - Вербицкий досадливо смотрит на свою синюю кисть. Так у него каждый треугольничек узорной кожной сеточки можно разглядеть, так он еще больше на ящерицу похож. Или на инопланетянина.
- Дурак, я сказал! Достал ты со своим седьмым этажом – как мы тебя оттирать будем?
- В шестом классе я три дня ходил с черными усами на щеках от маркера, думаешь – это не переживу? – опять смеется.
Я не знаю, зачем мы все еще ходим в этот дом. Как-то это несолидно, шляться по заброшенным стройкам в таком возрасте, но Вербицкий не успокоится пока не долезет до конца, я-то знаю, нельзя ему говорить «нельзя».
- А вы с Оксаной трахались? – я чуть не поперхнулся от этого вопроса: Вербицкий уже успел отбежать от подписанной стены к зияющему проему окна и устроиться там, подобно горгулье. – И вот только не стесняйся сейчас, а? В конце-концов, это же я тебе ее наколдовал, имею право знать.
- Ну да, - отвечаю честно, чего уж там ломаться. Просто Вербицкому это немного стыдно говорить. Стыдно не так, будто зазорно, а будто это неправильно.
Я нарисовал еще какую-то дурость, которая в равной мере могла сойти и за каляку-маляку и за экспрессионизм, как это сейчас модно называют. Вербицкий что-то проорал - то ли голубям, то ли прохожим.
- Меня твоя Оксана ненавидит.
- Ага, она тебя чмошником называет.
- Сууука…
- Пошел ты.
Вербицкий с силой кинул в меня моим собственным портфелем, прицельно попав по голове.
- Охуел?!
- Пошел ты!
Оксана правда не любит Вербицкого. Смешная она такая, говорит: что ты с психом недоразвитым общаешься? Что, если в детстве мы с ума сходили – это еще ладно, но ведь сейчас я такооой, а он - такой. И уж совсем она казалась потешной, когда делала страшные глаза и тихонечко шептала: «И вообще, ты забыл, какой он придурковатый? Вдруг проклянет? Или сглазит?»
Дура тупая и любимая.
Как и Вербицкий.
Он ее тоже ненавидит.
У меня дома мы полтора часа провозились в ванной, всеми правдами и неправдами пытаясь оттереть синюю чешую с кожи Вербицкого. Добились лишь сильного собственного раздражения и легкого потускнения краски. Зато Вербицкого радостно затискала моя мама, усаживая моего вечно голодного товарища за стол и жалобно рассказывая нам про голубя.
Голубь оказался унылой, исхудалой птицей. Обыкновенный, темно-серый, с длиннющим шершавым клювом и большими, черными, влажным глазами. Он сидел, вжавшись в левый угол уличного подоконника моего окна. Я постучал пальцем по стеклу. Голубь лишь чуть двинул крыльями вверх, в каком-то болезненно-опасливом движении, очень бестолковом, но честном, из последних сил, а потом немного повернул головку ко мне, так, что я мог видеть его глаз.
То, что голубь собрался умирать на моем подоконнике, вызывало отвращение и какую-то тревогу. Мама лишь тихонько скулила, что он тут с утра сидит, как я в школу ушел, и никак не реагировал ни на стук в стекло, ни даже на крошки хлеба, которые она скидывала на противоположный конец подоконника. Несколько крошек запутались в темных крыльях птицы, видимо, унесенные ветром.
- Надо открыть окно. Я просто столкну его вниз отсюда.
Я не хотел видеть мертвого голубя у себя на окне. Лучше пусть умрет там, не имея отношения ко мне, как миллионы тех птиц, чьих раздавленных трупов которых всегда так боялись наши девчонки одноклассницы.
- Дай ему время – он сам отсюда улетит, - Вербицкий хмурится, внимательно разглядывая птицу пустым глазом, но не стремясь подойти ближе. Он своего родственника летающего в нем увидел что ли? Конечно, у него на окне не умирают всякие помойные больные птицы!
- Тёмочка, давай, папу дождемся, он разберется с ней…
- Ма, выйди, а?!
Вербицкий внимательно следит, как моя мать послушно выходит за дверь и, выдохнув, направляется к кровати. Беспардонно, как обычно, валится на нее, привычным движением включает стоящий рядом музыкальный центр. Я тянусь к щеколде.
- Не тронь, он сам улетит.
- Вербицкий!..
- Знаешь, чем отличается секс, когда с девушкой, от секса, когда с мальчиком?
Я в миг забываю про окно, умирающего голубя и оборачиваюсь к колдуну. Тот спокойно тянет губы в обычной для себя улыбке и рассматривает синий кулак.
- Чё?
- Сиськами, - я смотрю в ставшее абсолютно серьезным разноглазое лицо Вербицкого, и все еще не могу понять, с каких это пор мой друг говорит про секс геев. – Сиськами отличается. А так – система одинаковая. Забавно, да?
- Отвратительно, - цежу я, падая возле разноглазого Мерлина и цепляясь за его длинный нос. – Озабоченный колдун, найди себе уже девушку!
- Да хуевый из меня колдун! – радостно вопит Вербицкий, так, что я даже подозрительно кошусь на дверь. Хотя – включенная перед этим музыка глушит большую часть наших слов от посторонних ушей.
Разноглазый вскакивает на ноги прямо на кровати, и прыгает, но я тут же тяну его вниз, заваливая обратно и больно ударяясь кистью об какую-то очередную ярко выраженную кость этого ходячего человека-скелета.
- Ты совсем с катушек слетел?!
- Колдун из меня отстойный, говорю! – все так же счастливо вещает мне Вербицкий. Еще и лбом своим бодает мой лоб, а потом спокойно поджимает к себе коленки и обнимает. Я когда-нибудь чокнусь с этим Вербицким, или все-таки придушу его - чтобы не мучаться. Но я рядом с ним, лежу, мне неудобно, но менять положения не хочется – боюсь спугнуть. Тяну его за вьюнки волос, тереблю их, растрепываю – глажу так, своеобразно, конечно...
- Чего с тобой?
- Вот на фига я тебе Оксану наколдовал? А потому что ни черта не умею. Я сам хочу…
- Оксанку? – у меня сердце в пятки ползет, неприятно задевая душу и желудок. Мы с Вербицким нашли место для души, еще в шестом классе: оно тут, внутри, над желудком, под легкими, а может, прямо в них, касается сердца. Это он, получается, тоже Оксану любит? Одну и ту же, оба?
- Тебя.
Он быстро поднимается. Смотрит в окно, на голубя.
- Клево я тебя отвлек? Я такой молодец.… В общем, не смей его выбрасывать, он сам улетит. Я знаю, он еще полетать хочет. Выбросишь – прокляну. Тебя и Оксанку!
Через минуту Вербицкого не было в моей комнате, а на следующий день – не было и голубя. То есть – вообще никакого. Ни мертвого, ни живого, только загаженный угол подоконника. Правда что ли сказал Вербицкий, что он летать хочет? То, что Вербицкий поговорил с этим голубем, я не сомневался: он Вербицкий, он колдун и вообще, он очень похож на этого голубя – нагадил и смотался.
На пятом этаже недостроенного дома все стены исписаны синим «Зотов – козел». У Вербицкого за это теперь лиловая скула. А у Оксанки голубое белье. Все прекрасно, как обычно, только вот во мне будто что-то сидит. Шевелится и крутится, дергает за нервы. Я будто вверх ногами ходить пытаюсь. Меня ломает, выкручивает, дергает, я срываюсь на мать…
- Что – получилось у меня тебя проклянуть? – насмешливо щурит Вербицкий яркий глаз. Курим в туалете. Я курю. Потому что вторую – Вербицкому хватает и одной. Рядом шумит канализационная вода, завывая в трубах, проносясь вниз, мимо нас, наполняя бледные бачки унитазов без крышек. У каждого какая-нибудь убогая ручка – ниточка с пробкой на конце, например.
- Я тебе голову сейчас разобью, - мне не смешно, вообще никак. Я жадно курю вторую подряд сигарету, мучаясь ее едкой горечью, но радуясь хоть какой-то теплой заполненности.
- Из меня что-то вытащили… ты, сука?
- Что из тебя вытащили?
- Что-то… хуево мне!
- А тебя предупреждали, что со мной лучше не общаться? Заколдую.
- Заткнись.
Вода все гудит. Она меня одновременно бесит и успокаивает. Тут в туалете все, как в Стране Чудес. В Почти Стране Чудес. Почти зеркальное. Стены из кафеля, пол из кафеля, кусок стекла под названием зеркало, керамика в форме унитаза, керамика в форме раковины, умножаем на три каждую, большие стекла окон, густо измалеванные снизу белой краской. Тут прохладно, влажно, стеклянно – как в террариуме. Моя персональная змея, ящерица, хладнокровная тварь смотрит на меня со своего насеста. Одна нога небрежно спущена с бетонного, просторного подоконника.
- Хочешь, поцелую?
Клоун, действующий на нервы.
Один глаз светлый, золотистый, объемный и влажный, второй – просто бледный, и какой-то из этих глаз гипнотизирует, какой – за все годы нашей дружбы я так и не понял.
Я его просто рывком сдергиваю с подоконника, так, что он неловко приземляется на ноги, падая на одно колено, и в отместку ударяет меня локтем в живот. Пока я запихивал его в угол между холодной кафельной стенкой и шумящим унитазом, который казался мне сейчас самым безопасным местом в школьном туалете, мы успели подраться. Сам напросился. Целовать его, больно сжимая плечи, специально, и чувствовать ответную от него боль, до синяков – я ему всю горечь сигарет в рот сунул, вместе с языком, слюной, и своей какой-то уже перманентной злостью.
Меня сейчас в нем бесило абсолютно все. Закрытые глаза, будто у кайфующей девчонки, ответный поцелуй, какое-то утробное мурлыкание или рычание.
- Сука. Все из-за тебя.… Все было хорошо, и все будет хорошо, понял меня? Не вздумай похерить все то, что было, я не хочу без тебя!
- Так и не был бы ты без меня.
- Заткнись, ты хуйней маешься, ты все портишь, понял меня?! Всё, что было - будет и дальше, будет существовать, потому что всё было правильно! Не смей это ломать, а то я тебя убью.
- Так уже всё…
Что «всё» я так и не узнал у него. Я отчаянно верил, что еще не всё сломано, ни наш мир, ни он – мне, блядь, все это нужно! Хороший, лучший друг, с кучей клёвых и душещипательных воспоминаний из детства, с чертовой мечтой залезть на последний этаж старой развалюхи, найти скелет птеродактиля, с кучей говорящих шрамов на теле – я хочу, как нормальный человек, вспоминать это, жить с этим, без отвратительного вкуса какого-то неправильного поцелуя в вонючем мужском туалете. Все должно быть нормально, как запретную сигарету выбросить в толчок и снова стать милым выпускником.
Вербицкий виновато, но от этого не менее шкодливо улыбается, льнет ко мне с какой-то наигранной маниакальностью, явно издеваясь. Ненавижу его за это, но поделать ничего не могу. Надо было пришибить его раньше, сейчас уже поздно, и я сам в этом виноват. Он мне об этом постоянно сообщает своей высокомерной улыбкой и задранным вверх подбородком, но смотрит внимательно, твердо, как-то не по-Вербицки. Меня пугает возникшая между нами ситуация. Я люблю этого Мерлина, правда. Как я вообще могу без него? Но все неправильно...
Оксана мягкая и стройная, приятная на ощупь, красивая, изящная, ее так приятно прижимать к себе, ласкать, гладить по точеным бокам, слушать ее нежный голос. Вербицкий больно толкается угловатыми локтями, брыкается, жмется, ударяет уголками косточек, весь такой тощий и твердый. Вербицкий говорит всякую грубую мерзость, так и не воспитав в детстве свой гадкий язык, он сильный, мне тяжело удержать его на месте, когда ему снова что-то ударяет в голову, и он отчаянно рвется из объятий, за которые пять минут назад не менее отчаянно сражался. А в голову ему вообще лезет черт-те что…
«Совсем с ума сошел этот парень!»
Я согласен. Я просто чудом вырываю его тощую фигуру из проема окна в заброшенном доме, а потом пихаю в кучу строительного мусора и что есть силы ору на него, срываюсь, чтобы больше не смел прыгать с такой высоты. Нельзя Вербицкого просить, чтобы он чего-то не делал, я помню, но третий этаж - это слишком высоко, слишком опасно, а он уже слишком сильно заигрался моими нервами и своей шкодливой жизнью. Еще один шанс застать меня врасплох и прижаться ко мне. Обещает, что не будет.
- Точно?
- Точно.
- Только попробуй обмануть и помереть, придурок…
- И не подумаю…
Уверенно отталкиваю его от себя. Эта покорность пугает еще больше вечных касаний. Кажется, это уловил даже сам Вербицкий.
Он шутит. Он все еще смеется. Он рядом.
Он затаился - в очередной раз.
Он все делает правильно и безукоризненно, лучший друг, приятель - как я и просил… все, как я и просил.
А у меня чувство, будто я совершил особо тяжкое преступление. Как будто на моей совести какой-то серьезный прокол, и Вербицкий давит теперь своим присутствием, своим внимательным взглядом. Я боюсь Вербицкого. И злюсь. Столько злобы я в себе никогда не носил.
Кинутое между делом отцово сообщение о его переводе в другой город, я воспринимаю, как подарок судьбы. Мы никому не говорим об этом, но я тихо праздную победу.
Вербицкий все еще тут, еще рядом, как истинное хладнокровное честно ворует мое тепло. Я стараюсь не думать, что с ним будет, если я вдруг неожиданно исчезну. В конце концов – Вербицкий не маленький, клятву верности мы друг другу не давали, зато я подарю нам обоим, ну или хотя бы себе, возможность жить дальше - спокойно жить.
Он будто чувствует меня, видит мои мысли, слишком часто на его лице появляется пустая улыбка. Вербицкий задумчиво рассматривает мою опустевшую полку над кроватью, медленно перечисляет недостающие предметы и тут же замолкает, будто ждет от меня объяснений этому. Понял или еще нет? Я знаю лишь, что у меня в столе лежит первое в моей жизни письмо. Всего один тетрадный лист, да и то, я уверен, с ошибками, но это письмо будет рассказывать Вербицкому то, что я сам объяснить не смог.
- Извини меня.
Я вздрагиваю так, что можно смело давать мне саечку за испуг. Вербицкий внимательно смотрит на меня, крепко сцепив пальцы рук в замок.
- За что мне тебя извинять?
- За то, что я такой неправильный, за что же еще. Я ведь все испортил, да? Вот ведь дурость, я же специально говорил так, чтобы потом можно было отшутиться, если что… - он падает на спину, так, что матрац на кровати чуть подпрыгивает. Буравит глазами потолок, раскидывает руки, будто птица: - Мне… плохо так, как сейчас. Раньше тоже было плохо, но сейчас еще хуже. Я не знаю, что я такое, но для тебя я могу быть чем угодно, так, чтобы только было хорошо. Только рядом, да?.. Извини.
- Все в порядке, старик, чего ты?
Он смотрит недоверчиво, но улыбается. Я хочу перестать быть.
За несколько часов до отъезда я звоню Оксане. Пусть узнает о моем отъезде из первых уст – лучшего информатора нигде больше и не найти. Мне кажется, я делаю все правильно – так как было ведь неправильно?..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
На седьмом этаже не чисто. Большая часть потолка-крыши проломлена, здесь гнилые ветки и листья, здесь грязно, все так же грязно. Здесь братская могила всех местных голубей, целый склеп – я смотрю на беленькую черепицу их костей, на грязную кучу серого пуха, украсившей каемку этажа, и чувствую себя уставшим. Где-то здесь лежит и мой голубь, тот самый, который еще хотел полетать, после которого у меня в душе все надломилось и истлело. Мне кажется, я даже замечаю среди кучи дерьма на бетонном полу кусочки черного пепла, в который когда-то превратились наши дневники за одиннадцатый класс - твой и мой.
Здесь живет какой-то злой и грустный ветер. Это ты так его назвал, а я сказал, что он просто очень сильный. Я представляю, как он толкается сквозь этажи, пролетая через пробитые в бетоне оконные и дверные проемы, снизу вверх, от земли - сюда, почти на небо, страшно воя. Эхо, эхо – его тут много, в каждой недостроенной комнате свое.
Тут на каждой стене наша метка. Сначала синяя, а потом зеленая – пришлось стащить еще один баллончик у отца.
ЗДЕСЬ БЫЛИ МЫ!
Дальше зеленая закорючка, еще одна – и целая череда закорючек. Мы рисовали солнце, рисовали буйвола с большими яйцами и голую русалку. Пятна краски, зеленые кляксы, закорючки и все это – история, настоящая, реальнее той, что в учебниках, для меня самая значимая. Когда солнце подсвечивает эту стену, оно вызолачивает зелень краски, и дальше только линии, сплошные, беспрерывные, они замыкают собой образы, землю, над которой палит то первое солнце, хоть и нарисованное, но жестокое до одури, выжигающее до жалобного треска лопающиеся камни, а выше только небо - там летают древние ящеры, захватывая воздух своими кожистыми крыльями…
Тут делаешь шаг и слушаешь хруст крошечных костей под кроссовками.
- Ты об этом так мечтал?
Он никогда не ответит на этот вопрос.
Ветер на пару с эхом искажает мои слова на свой мотив. Тут страшно.
Противоположной стены нет. Как и крыши над ней. Обвалились ли они вместе, или их просто не достроили – кто знает? Кирпич обсыпаетя, превращается в пыль и предпочитает молчать. Когда-нибудь, это все вконец сломается, сложится, как карточный домик, похерит нашу историю, птичий склеп, парочку бомжей под нами…
А пока…
Ящерица, тощай, гибкая, костлявая, притаилась у пролома стены, скукожившись и склонив голову вниз, разглядывая пропасть под собой. Солнце делает ее экспонатом в музее, выделяет каждую ступеньку острого, топорщившегося позвонка, каждую выпирающую сквозь кожу кость. Должна сдохнуть давно, но живет, испортив себя и меня. Сидит неподвижно и не обращает внимания на годы, нужно было бы – подождала бы и несколько столетий пылью под стеклом – пока яд подействует.
Рядом с ним лежат запечатанные конверты. В каждом – длинное и путаное послание, желание разобраться во всем, в себе, в нем. По письму в год, итого целых три толстых конверта. А в кармане лежит самая первая моя попытка выразить свои эмоции на бумаге. Интересно, если бы я отправил ему хотя бы одно письмо, что-нибудь изменилось?
- Ты их не будешь читать?
И если и изменилось бы – то как бы все стало? В конечном итоге, я чувствую себя героем старой поговорки «все дороги ведут в Рим».
Мои конверты, украшенные почтовыми марками, летят вниз, унося с собой все вывернутые наизнанку внутренности моей души. Ей сейчас даже не обидно.
- Зачем мне их читать? Рассказывай сам.
Почему ты то, что ты есть, и что, черт подери, ты такое?! Ты сам спрашивал меня об этом, задавал эти вопросы, хотя, мне кажется, что сами эти вопросы для тебя – лучшие ответы.
Глажу тонкую, кожаную перепонку между его пальцами, большим и указательным. Признак родства с пернатыми? Или с ящерицами…
У этого птеродактиля разные глаза.
Конец.
Послесловие от Дилы:
Всему черта подведена:
Пустым провалам черных окон,
Улыбкам теплым сентября,
Где каждый не был одиноким.
Черта всему подведена -
Цветному счастью мармеладок,
Твоей тревоге за меня,
Тому что я - нелеп и жалок...
И в горечи кривых зеркал
Почти родного Зазеркалья -
Тобой я все-таки дышал
Изнемогая от желанья.
Изнемогая, горький дым,
Въедался в мир твоих упреков.
Я где-то даже был живым,
Я где-то был... не одиноким...